Давиду Нойхаусу было 15 лет, когда он приехал в Израиль из Южной Африки. Его родители были евреями, они пережили нацизм, пока жили в Германии. Но семья не была религиозной. Подростком Давид познакомился с игуменьей Гефсиманского монастыря, матерью Варварой. Именно она подарила ему первую встречу с христианством, которая определила всю его жизнь.
Сегодня отец Давид Нойхаус — глава иезуитской общины в Израиле. Ранее он был викарием Иерусалимского Латинского патриарха для ивритоязычных католических общин.
Моя первая встреча с христианством
— Отец Давид, я не уверен, что если бы я приехал в Израиль подростком, то стал бы христианином: слишком много негатива. Но вы здесь христианином стали! Как это получилось?
— Когда я приехал в Иерусалим из Южной Африки в 15-летнем возрасте, религия не была частью моей еврейской идентичности. Я вообще ни во что не верил.

Первая встреча с христианством, первая определяющая встреча у меня была с матерью Варварой (Цветковой, 1889–1983), игуменьей русского православного монастыря Марии Магдалины в Гефсимании. А она была удивительным человеком!
Приехав в Иерусалим, я учился и жил в одной из еврейских школ в центре города. На третий свой шаббат в Иерусалиме я убежал из школы и отправился на Елеонскую гору в русский монастырь для того, чтобы найти мать Тамару (Багратион-Мухранскую, 1890-1979). Тогда я очень интересовался Елизаветой Феодоровной, Романовыми и всеми европейскими монархами. Вот это мне было интересно: я хотел написать по-английски биографию Елизаветы Феодоровны, и нужно было расспросить обо всем мать Тамару!
А уже не было возможности… Мать Тамара была в коме и больше не могла общаться. Я ее видел один раз, но мы уже не смогли поговорить (потом я переписывался с ее сыном — князем Теймуразом Багратион-Мухранским, он жил в Австралии).
И сестры сказали — мне было всего 15 лет, так что не уверен, что они меня всерьез воспринимали — идите вниз в монастырь Марии Магдалины и поговорите с матерью Варварой, она ведь тоже очень хорошо знала Елизавету Феодоровну. Таким образом я встретил мать Варвару, которая была второй игуменьей Гефсиманского монастыря, после его основательницы матери Марии (Робинсон).
Когда я пошел с ней знакомиться, я совершенно не интересовался христианством. Но я пришел, и она приняла меня с большой радостью. Она была уже очень старой, и нижняя часть тела у нее была полностью парализована. Это были последние годы ее жизни. И вот она сидела на своей кровати, а я был рядом с ней. И она была абсолютно сияющей, совершенно светящейся. Мы говорили о Елизавете Феодоровне, о Романовых.
— А на каком языке вы говорили?
— По-английски. У нее был безупречный английский. Конечно, она говорила и по-французски — до Иерусалима она жила во Франции. Рассказывала она и свою собственную историю. Потом про Романовых. И она совершенно не говорила про религию.
И уже когда я вышел из монастыря и пошел обратно в свою школу, я подумал, что этот человек был самым счастливым человеком, которого я когда-либо встречал в своей жизни. И я подумал — как интересно: она — старая, парализованная, она монахиня. У нее трагическая история: ее отец был приговорен в Советской России к расстрелу, был освобожден в самую последнюю минуту, и они смогли уехать во Францию. Были беженцами. Очень тяжелая история жизни. И как же она могла быть счастлива?
Из школы я мог уходить только в шаббат. Так что на следующей неделе я опять пришел в монастырь. Мать Варвара вновь меня приняла. Я вновь сел рядом с ней. Но уже не собирался говорить о Романовых. У меня был вопрос.
Мне тогда было 15 лет, и я ее спросил: «Почему же вы счастливы?» Она была в замешательстве. Она знала, что я еврей, и совершенно не собиралась говорить о религии. Но я ее очень просил, и в итоге она сказала: «Я влюблена». Старая монахиня, что же она имела в виду? И она очень осторожно стала говорить об Иисусе. Но так, словно Иисус в самом деле был с нею, как настоящий живой человек. И для меня это тоже стало первой встречей с Иисусом.
Мы вновь и вновь с ней встречались. Это был 1977 год. Затем я уехал к родителям и вернулся в ту же школу уже в 1979 году. И вновь приходил к матери Варваре до тех пор, когда она уже не могла общаться. Она умерла в 1983 году.
Там была еще одна монахиня — мать Агафия, которая была арабкой из очень важной палестинской семьи Балат. Ее брат Дауд Балат был, если не ошибаюсь, министром в Иордании. И с ней я тоже беседовал часами. Я тогда еще не знал арабский, но у нее был очень хороший английский.
Это была моя первая встреча с христианством. А также и первый литургический опыт в монастыре Марии Магдалины. Когда я стал склоняться к Католической Церкви, то я посещал не римо-католические общины, а пошел к греко-католикам у Яффских ворот. Тот храм, в котором в 70-е годы румынскими иконописцами были сделаны замечательные фрески, они же расписали в Иерусалиме храм Румынской православной миссии. Для меня это тоже было византийской литургией.
И лишь когда я решил, что пора принимать крещение — а все эти годы я о крещении еще не просил — я был представлен католической ивритоязычной общине.
— Когда сегодня приходишь в православные монастыри, не всегда кажется, что тебя там так уж ждут. А вы пришли, как израильский подросток, и вам были рады?
— Когда я туда впервые пришел, я еще не был израильтянином. Я был англоязычным подростком из Южной Африки. Не уверен, что по мне было так уж видно, что я еврей. Когда это стало очевидно, то меня уже занимал вопрос, могу ли я быть подлинно дома в этой церкви.
Когда я стал общаться с матерью Варварой и подружился с матерью Агафией, то я стал рассказывать об этом своим друзьям в школе. Я стал им говорить, что в школе нам не дают полной картины: вокруг нас целый мир — арабы, христиане и мусульмане, и самые разные другие христиане. И нам это не показывают!
Так что я продолжил уходить из школы в шаббат и каждый раз брал с собой четверых или пятерых ребят. Мы приходили на вершину Елеонской горы, спускались с нее, посещали Dominus Flevit и Марию Магдалину, Гефсиманскую церковь, затем был Крестный путь, Ecce Homo, храм Александра Невского, где был в те годы архимандрит Антоний (Граббе), Храм Гроба Господня. Потом вечером мы шли в румынскую церковь в Меа Шеарим к началу вечерни, и последней остановкой был русский Троицкий собор на Яффской улице, где мы оставались на вечернюю службу. Так, с некоторым секретом, мы ходили раза четыре.
Человек двадцать, в общей сложности, со мною там побывало. А потом я был вызван к директору школы.
Кто-то ему сказал, и директор был очень зол. И из-за того, что это христиане, но в первую очередь из-за того, что это была арабская часть Иерусалима. Он мне сказал, что я должен это прекратить или он меня выгонит из школы. И я должен буду вернуться в Южную Африку.
Я его спросил, а есть ли какой-то третий вариант решения, или только один из этих двух? А он был очень умный. И он сказал: «Да, есть третий вариант: на следующей неделе в субботу ты возьмешь меня и мою жену в такое путешествие. И по его окончании я решу, можешь ты это продолжать или нет».
На следующей неделе он и его жена — им обоим было тридцать с небольшим — прошли весь этот путь, и в конце, когда мы уже вышли из русского собора на Яффскую улицу, он сказал: «Никогда на меня не ссылайся, но — продолжай: у нас сегодня было удивительное путешествие!»
В школе нас было человек 70, и около 45 подростков я в итоге провел по этому пути.
Фото: Hillel Maeir
«Я вам — об Иисусе, а вы мне про то, что нацисты сделали»
— Вы приехали в Израиль, как молодой сионист?
— Не могу сказать, что я был таким уж сионистом. И мои родители ими тоже не были. Я тогда приехал учиться и жить в школе-интернате, а они остались в Южной Африке. Проблемы в Южной Африке были серьезными, и мои родители, а также бабушка с дедушкой (которые тоже не были большими сионистами) хотели, чтобы я оттуда уехал.
И они думали — куда можно отправить детей? В Америку — не было денег. Так значит, мы можем отправить их в Израиль! И это было очень распространенным решением в то время. Так что не могу сказать, что я был таким уж сионистом.
После первого года в Израиле я поехал к своим родителям в Южную Африку и сказал им, что хочу быть христианином. Первая их реакция, их первые слова были совсем не про Иисуса и не про веру: «Как ты можешь быть вместе с христианами после всего того, что они с нами сделали?»
Мои родители были из Германии. Отец еще родился в Германии, а мама родилась через несколько лет после того, как ее родители смогли оттуда уехать. Так это было, кстати, и в нашей школе: и нацисты, и все остальные, все скопом назывались — христиане…
Не знаю почему, но я им тогда ответил так: «Я хочу быть христианином, но я ничего не буду делать в течение 10 лет. Я вас очень уважаю, и у меня в самом деле нет ответа на ваш вопрос. Я вам говорю об Иисусе, а вы мне про то, что нацисты сделали в XX веке. Я не знаю, что на это ответить… Но в течение 10 лет я ничего не буду предпринимать. Если через 10 лет у меня это останется, то вы это примите!»
Мама посмотрела на папу, папа — на маму, и они оба сказали — ну и замечательно. Не сомневаюсь, что они подумали о том, что все это блажь, которая пройдет. Мало ли что может прийти в голову 15-летнему подростку: сегодня решит стать буддистом, а завтра уже передумает. Ну а я воспринял все это очень серьезно.
Когда я говорил с матерью Варварой, она меня совершенно не склоняла к христианству. Когда я ей сказал, что вот, побольше бы мне узнать об Иисусе, она ответила: «Вы — еврей, и оставайтесь евреем!» Перед отъездом к родителям я зашел к ней, и она мне подарила четки и сказала: «Я не знаю, как вы молитесь, — а я был совершенно светский еврей, так что никак не молился, — но, когда вы будете молиться, держите с собой вот эти четки и молитесь с ними, но так, как вы привыкли».
Думаю, что меня очень привлекало как раз то, что она меня совершенно никуда не подталкивала. 15-летнего-то подростка!
Когда я к ней вернулся, то первым делом передал разговор со своими родителями. Что же я должен им ответить? И она дала мне ответ, который меня тогда удовлетворил, но на очень короткое время: «Этот мир — страшное место. Здесь происходят ужасные вещи. Для того, чтобы сохраниться — оставайтесь в Церкви».
Но после этого я стал обращать внимание на две вещи: в Церкви много очень тяжелых людей, и, второе, очень много просто замечательных людей — вне Церкви. Так что это не тот ответ, которым я могу поделиться со своими родителями. В общем, я продолжил искать.
— Интересно, православные монахини совсем не склоняли вас стать именно православным?
— Если бы они знали, что я собираюсь креститься, наверное, они бы желали мне стать православным. Много лет спустя, когда я в качестве викария Латинского патриарха был на рождественской встрече у президента, рядом со мной сидела русская православная монахиня. Это была игуменья монастыря Марии Магдалины, австралийка. И я ей рассказал о своей связи с ее монастырем…
Первый священник, которого я встретил, когда был уже студентом университета — иезуитский священник-американец отец Петер du Brul. Он жил в Вифлееме и все эти годы преподавал в Вифлеемском университете. Он и сейчас жив, а поскольку он иезуит, то я оказался его настоятелем…
И я ему все рассказал. И то, что я ищу ответ на один вопрос. Он на это ответил совершенно по-иезуитски: «Как же тебе везет: у тебя только один вопрос». Когда я стал уже приближаться к Католической Церкви, для меня оказалось очень важным, что мой вопрос — этот вопрос моей матери — является одним из основных вопросов для Католической Церкви сегодня.
Одним из людей, очень меня привлекавших после того вопроса моей матери, стал папа Иоанн XXIII. Я уверен, что после войны он задавал себе именно этот вопрос. Пусть у меня нет ответа, но я могу сказать моей матери, что это действительно важнейший вопрос, над разрешением которого Церковь сегодня бьется: как это все могло произойти и что мы должны сделать для того, чтобы это больше не повторялось? Эта убежденность Церкви со времен папы Иоанна XXIII и дальше — как раз то, чем я мог поделиться со своими родителями.
По прошествии десяти лет я уже мог сказать своим родителям, что собираюсь принять крещение. Тогда я был уже в контексте католического мира.
— Вы были связаны еще и с греко-католиками?
— Да, это было очень интересно. Когда я стал к ним ходить, я уже был израильтянином. По крайней мере к тому времени уже репатриировался и учился в Иерусалимском университете.
А греко-католическая церковь здесь была всегда очень связана с арабским национализмом. Был очень харизматичный архиепископ: это был сириец Лутфи Лахам, который совсем недавно ушел на покой уже как греко-католический патриарх. Он замечательный литургист и проповедник. Был очень красивый хор…
Все это было интересно, но они совсем не знали, что им со мной сделать, хотя к тому времени я уже хорошо говорил по-арабски, так что никаких затруднений в общении не было. Я участвовал в литургии, но понимал, что для них это была очень странная ситуация. И хотя я им не говорил: «Вот смотрите, я израильтянин», — они все равно были в некотором недоумении.
Там была еще небольшая община Малых Сестер Иисуса, очень активная в этом приходе. И с ними я потом очень стал близок. Но потом я им говорил: «Тогда вы смотрели на меня, как будто я израильский шпион из Шин-Бет. Тогда вы совсем не были ко мне открыты»… Но литургия была очень красивой. Я ходил к ним по воскресеньям, но никак не хотел навязывать себя общине.
Тогда же я познакомился с ивритоязычной общиной и посещал их в течение многих лет до того, как решил просить о крещении. Когда я уже стал об этом думать, то был дружен с о. Петером. И он сказал, что сам он не хочет иметь никакого отношения к моему крещению: он живет в Вифлееме, вся его жизнь связана с палестинцами. И он мне совершенно не советовал креститься.
«Сейчас у меня есть друг — израильский еврей, — говорил он, — и я бы хотел, чтобы вы таковым и остались для меня».
В то время священник ивритоязычной общины тоже был иезуитом, и он жил как раз в этом доме, где мы с вами сейчас беседуем. Это был о. Хосе из Никарагуа. Я с ним подружился и в какой-то момент спросил: «Что бы вы сказали, если бы еврей попросил вас о крещении?» Он ответил: «Я бы ему сказал: не звони мне больше, я тебе сам позвоню». То есть давай уходи отсюда.
В общем, в Католической Церкви нет особой миссии, обращенной к евреям. Через несколько дней я ему все же позвонил и сказал: «А что вы скажете, если этим евреем являюсь я сам?» — «Ну, это как-то меняет ситуацию…»
Я начал готовиться к крещению. Было два года катехумената — подготовки, как и для всякого, кто во взрослом возрасте собирается присоединиться к Католической Церкви. В общем, этот десятилетний период был очень важным, и в конце его мои родители дали свое согласие.
Моя мать сказала: «Есть много куда более плохих вещей, которые ты мог бы избрать: все-таки ты просто христианин, а не наркоман».
В то же самое время сын ее подруги стал религиозным иудеем: он отказывался есть в доме своих родителей и так далее. «Слава Богу, — сказала мама, — ты хоть не стал религиозным иудеем!» Так мои родители приняли это, и я был крещен в 1988 году о. Хозе Эспинозой в ивритоязычной католической общине Иерусалима.
Отец Давид зажигает крестильную свечу во время мессы для говорящих на иврите католиков в Израиле в 2014 году. Фото: catholic.co.il
Как стать евреем-христианином среди арабов
На следующий день после крещения я пришел к о. Хозе и сказал ему, что — как он, наверное, догадывается, — я хочу быть иезуитом и священником. Он ответил, что иезуиты не принимают к себе раньше чем через три года после крещения. И тогда я отправился писать докторат в Иерусалимский университет. Научному руководителю сказал, что у меня есть ровно три года. И если я не успею, то мне придется оставить докторат: мне просто нужно чем-то заниматься эти три года. Докторат я закончил и после этого поехал с о. Петером в Каир.
Там я встретился с нашим провинциалом. Он был очень изумлен. «В наших общинах здесь, — сказал он, — египтяне, сирийцы и ливанцы. Как можем мы взять вас, еврея-израильтянина?» При том, что я свободно говорил по-арабски и был готов ехать в любое место, куда меня направят. Но он посоветовал мне отправиться к иезуитам в Бостон.
Я им написал. Они пригласили немного попреподавать в их университете и по ходу дела посмотреть, возьмут ли меня в послушники. За месяц до отъезда провинциал Ближнего Востока мне написал, что он был неправ и, если я все-таки стану иезуитом, он готов принять меня в своей провинции.
— Вы не хотели оставаться на Западе?
— Я знал, что нужно быть открытым и что послать могут куда угодно. Но в идеале я хотел быть здесь, в Иерусалиме. Я поехал в Соединенные Штаты, оставался там два с половиной года, а затем провинциал вернул меня в Египет.
В Бостоне было совсем неплохо, но там была элита. Они не знали, что такое быть маргиналом. И в этом смысле мне не было с ними комфортно…
В Египте нас было немного: два египтянина, два сирийца и ливанец. И вот там я себя ощущал совершенно дома! Для меня было проще быть евреем-христианином среди арабов, чем среди католиков в Бостоне. И после окончания новациата и преподавания в их школе в Каире меня решили отправить дальше учиться богословию. Спросили — куда? Я ответил, что в любую англоязычную страну.
«Нет, — ответил провинциал, — ты еще не мыслишь как иезуит. Сегодня я уезжаю, а перед отъездом оставлю тебе ответ в твоем почтовом ящике».
Утром я открыл ящик и прочел по-французски: «Tu va voir Pigalle» [«ты увидишь площадь Пигаль»]. Я даже не знал, что это такое, и пошел к настоятелю. «Ну, — сказал он, улыбнувшись, — первым делом ты увидишь Париж. А уж когда приедешь, там и спроси».
Так я провел во Франции три года, в Centre Sevre. Это был очень интересный опыт! Наша богословская школа в Париже была очень новаторской, это было не просто традиционное университетское богословие. И у меня был прекрасный тьютор — один из лучших иезуитских богословов, замечательные преподаватели Библии.
Когда занятия богословием были завершены, наш провинциал сказал — поезжай в Иерусалим и спроси, какой нужен иезуит для Иерусалимской церкви. И мне сказали: нам нужен преподаватель Библии, профессор Священного Писания. А мой докторат в Иерусалимском университете был по политологии, а вовсе не по Библии.
В итоге я был отправлен в Рим в Библейский институт на полтора года. Был там рукоположен в диаконы. И в феврале 2000 года уже вернулся в Иерусалим. И вот это были три прекрасные вещи — быть христианином, иезуитом и преподавателем Библии.
8 сентября 2000 года я был рукоположен в священники в Иерусалиме, в Эйн Кереме, Латинским патриархом Иерусалима Мишелем Саббахом. На рукоположении были мои родители, которые специально для этого приехали. И во время службы мой отец читал Апостол на иврите. Были также мои мусульманские друзья.
Интересно, что священник, отвечавший за организацию церемонии, сначала был против: «Ваш отец — некрещеный. Как он может читать на службе?» Я знаю, что с точки зрения канонического права это так. Но здесь все же особые обстоятельства. Это мой отец. Его сына рукополагают, то есть он отдает Церкви что-то очень для него важное. И патриарх меня поддержал.
Так что мой отец не только присутствовал, но и читал на рукоположении. Еще пришлось просить патриарха, чтобы участники, вопреки обыкновению, не должны были становиться на колени вместе с нами, ведь в первых рядах были мои еврейские родители и родственники, а также мусульманские друзья.
— Интересно, что еще до рукоположения вы дали много советов патриарху…
— Да, но в итоге все получилось очень красиво. Патриарх даже приготовил проповедь на иврите, думая порадовать моих родственников. Я успел предупредить его, что они — евреи из диаспоры и никакого иврита не знают. Так что в итоге он говорил по-английски. А незадолго до рукоположения провинциал сказал, что мне надо будет преподавать Священное Писание в семинарии в Бейт-Джале.
Преподавание стало следующим этапом. В конце сентября того же 2000 года премьер-министр Израиля Ариэль Шарон сходил на Храмовую гору, и началась вторая интифада. Многие преподаватели не могли уже доехать до семинарии, так что мне пришлось преподавать больше, чем я думал.
Но заезжать в Бейт-Джалу с моим израильским паспортом тоже было противозаконно. Я переходил границу в своей сутане и с итальянским видом на жительство. Но трижды я все равно был задержан солдатами.
Ходили тогда не через блок-пост, а в обход: в те годы, до постройки разделительной стены, с заднего двора католического института Тантур можно было попасть сразу в Вифлеем, если выйти через заднюю калитку. Но проблема была в том, что никогда не знаешь, не стоят ли за этой калиткой израильские солдаты.
С солдатами я говорил по-арабски и по-итальянски, уж коль скоро мне надо было предъявлять итальянский документ. В какой-то момент они меня остановили прямо за калиткой, вывернули содержимое моей сумки. И последнее, что оттуда выпало — мой израильский паспорт! Ну и тогда меня уже отправили в полицию.
Интересно, что один из полицейских там оказался армянином из Старого Города и потом долго извинялся. Но уже после третьего задержания папский нунций выдал мне ватиканский laissez-passer, и с тех пор уже не было проблем с пересечением границ.
— Ваше гражданство — израильское и южноафриканское?
— Нет, южноафриканского у меня нет, так как в свое время — еще во время апартеида — я уехал оттуда и не служил в армии. И за это был лишен гражданства. В 1994 г. в Египте — уже во время Нельсона Манделы — я подумал о том, чтобы попросить его обратно. Пошел в посольство, а в то время отказ от службы в армии, как причина потери гражданства, им как раз очень понравился.
Но это был паспорт только на 10 лет: после этого надо было туда обязательно возвращаться и жить… Но второй паспорт у меня все же есть: мой дедушка перед своей смертью решил восстановить себе и всем нам немецкое гражданство, из-за неопределенности ситуации в Южной Африке. Так что у меня есть германский паспорт.
Бабушка и дедушка действительно говорили по-немецки, а мы говорили уже по-английски. Идиша ни у кого не было: он был языком Ost-Juden, евреев из Восточной Европы.
В какой-то момент я нашел нашего родственника, который попал в нацистский лагерь, видимо по политическим мотивам, и освободился в 1941 году. Это было еще до «окончательного решения», так что он успел уехать, но уехать мог уже только в Шанхай, в Китай. Там была в то время целая община немецких евреев.
Так вот, оказалось, что семья моей бабушки перестала общаться с этой ветвью наших родственников еще после Первой мировой войны: они все жили в той части Германии, которая отошла к Польше. И эти родственники посмели остаться в Польше, тогда как наша семья переехала в Берлин, чтобы остаться немцами, а не стать Ost-Juden: и они перестали общаться с теми, кто, по их мнению, предал Vaterland. Сейчас все это трудно даже представить.
Отец Давид
«Будущее — в той реальности, которая есть уже сейчас»
— По поводу Общины св. Иакова, католической ивритоязычной общины в Израиле. Какова она сейчас?
— Очень деликатный вопрос… Когда я был студентом в Париже, в Centre Sevre, один из наших профессоров говорил, что у Церкви — два легких. Ну хорошо, подумал я, — Запад и Восток. Нет, два легких Церкви — это были язычники и евреи.
И я решил его спросить: а где же это еврейское легкое Церкви? Он мне ответил: «Вот вы оттуда и приехали. Вы и есть это еврейское легкое». Тут я попросил его подробнее рассказать, откуда же это я приехал… Он сказал: «Как? Это Oeuvre St. Jacques!» Нет, подумал я, будь это второе легкое Церкви — она бы уже давно умерла.
С самого начала в Oeuvre St. Jacques было определенное противоречие — очень полезное и плодотворное, — между теми, кто видел в этом великую богословскую, экклезиологическую миссию (это и Даниэль Руффайзен, и Йоханан Элихай, и другие люди), и теми, кто занимался конкретной пастырской работой. Oeuvre St. Jacques был основан в Яффе в 1955 году, и первым священником общины был Бруно Хуссар.
И вместе с ним был очень пастырский священник Альфред Дельме, бельгиец. Много занимаясь людьми, он хорошо знал, кто эти люди. Он занимался всеми католиками в районе Яффы: это были оказавшиеся здесь болгары, румыны, арабы, люди из числа «праведников народов мира», обращенные израильтяне. У него хранилась база данных всех людей, с которыми он работал. Так что были богословы и были пастыри. Дельме был пастырем. Были и другие настоящие пастыри. Позже возникла община и в Иерусалиме.
Да, есть определенная красота в видении богословов. Но жить только в этом видении нельзя. Будущее — оно в той реальности, которая есть уже сейчас. Было большое дело в попытке перевода католичества на иврит. И сегодня я вижу, что это очень пригодилось нашей молодежи.
У нас есть ивритоязычные верующие, пусть их до сих пор очень немного. Однако это по большей части не еврейские общины, а израильские. Они — часть израильского общества, хотя многие из них себя никоим образом не ощущают евреями. Например, наш ивритоязычный католический приход в городе Беер-Шева, на юге Израиля, состоит в основном из арабов. Их там большинство.
— Но ведь Беер-Шева — изначально совершенно еврейский город в центре пустыни Негев?
— Да, но в 70-е годы была большая миграция арабов-израильтян из своих селений на севере страны в еврейские города, по причинам чисто экономическим. Сами переехавшие люди сохраняли важную для них арабскую идентичность, говорили друг с другом по-арабски.
Но их дети уже выросли в Беер-Шеве! С трех лет и до 18 они ходят в еврейские детские сады и школы, так как — в отличие от традиционных мест арабского расселения, — в Беер-Шеве нет арабских детских садов и школ. В еврейское израильское общество они интегрируются, может быть, и не полностью, но в смысле языка — несомненно. У нас в приходе есть уже третье поколение арабов, родившихся в Беер-Шеве. Я видел и в арабских приходах в Галилее, что прихожане за богослужением иногда читают Писание на иврите, потому что они уже не умеют читать по-арабски.
Имеет ли это какое-то отношение к идее «церкви из обрезанных»? Ивритоязычная церковь Израиля не есть «ecclesia ex circumcisione»: там немного русских и много арабов, совсем немного евреев, немало европейцев, приехавших сюда с большой любовью ко всему еврейскому, филиппинцев, эфиопов, индийцев. Почему? Да потому что дети всех мигрантов становятся ивритоязычными. Мы боремся за то, чтобы они остались христианами, но для этого им нужно, чтобы было христианство на местном языке.
Идея еврейской церкви — очень красивая идея. Мы должны помнить о ней, потому что живем в еврейском обществе. И наличие здесь ивритоязычного христианства очень важно.
— А какова структура этой общины сегодня?
— Поскольку мы католики, тут все очень организовано. Все началось с четырех приходов — и до конца 90-х их столько и было: Яффа, Иерусалим, Хайфа и Беер-Шева. Когда стало приходить больше народу, мы открыли группы, которые говорят по-русски, и в других местах: в Латруне, Хайфе, Тивериаде, в Верхнем Назарете. Когда в 2008 году я стал патриаршим викарием ивритоязычных общин, структура была именно такой.
«Он любил людей». О Даниэле
— Об о. Даниэле Руффайзене (1922–1998). Его в России многие знают благодаря роману Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн. Переводчик». Он был скорее пастырь или идеолог? В романе он иногда кажется почти что еретиком…
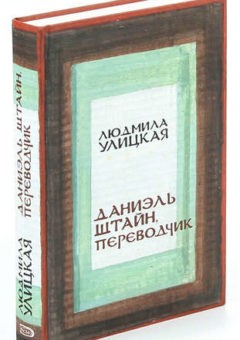
— Книга Улицкой — все-таки не биография. В ней очень много литературы. Это и конец жизни о. Даниэля (на самом деле он и не погиб, и в служении никогда не был запрещен), и некоторые любовные истории в его окружении… Даниил не был еретиком. Но он не был и богословом. Я думаю, что для того, чтобы быть еретиком, надо быть богословом. Он был человеком сердца. Даниэль был очень эмоциональным человеком.
В его сердце было видение обновленной церкви. Но это было скорее идеологией, нежели теологией. Он был не один: это была целая группа, думающая вместе. Если в той группе был свой мыслитель, то это был скорее брат Йоханан Элихай (1926–2020), нежели Даниэль. Но, как говорил Марсель Дюбуа: «Йоханан тоже не богослов, он лингвист». Другим мыслителем в их группе был итальянский иезуит Франческо Росси де Гасперис. Для многих европейцев это была важная такая идея…
Но Даниил был с людьми. Он любил людей! Но, если бы вы были в его общине в Хайфе, то увидели бы, что там было совсем немного людей, говоривших на иврите. Там были поляки, русские, французы, искавшие еврейские корни христианства (и они становились главными фанатиками этой идеологии).
Но еще раз — я считаю, что это видение красиво. Но когда говорили о «восстановлении еврейской церкви», то мне кажется, что это уже ерунда. А быть чувствительными к еврейским корням Церкви, к христологии еврейского Иисуса, и, в первую очередь, быть чувствительными к языку и культуре общества, в котором мы живем — всего этого не было бы без таких великих визионеров, как Йоханан, Даниэль и другие.
Но, слава Богу, всегда были пастыри, которые посвящали себя реальности. А реальность такова, что большинство наших людей — не евреи. Мы не как мессианские евреи, которые очень интересуются тем, кто еврей, кто нет. И если мы хотим выжить, то мы должны идти ко всем тем, кто сегодня является ивритоязычными христианами. И должны научить иврит говорить о христианстве, а христианство — говорить на иврите. И здесь это видение очень помогает.
— А как теории Даниэля уживались с реальностью?
— Даниэль не был последовательным интеллектуалом. Если б он им был, то собирал бы вокруг себя лишь тех, кто разделял его идеи. Но, слава Богу, он был подлинным пастырем. И он был открыт ко всем, кому был нужен. Даже если они не знали ни слова на иврите, не интересовались еврейскими корнями Церкви и не знали, что «настоящая» церковь — это церковь, говорившая на иврите. Он служил всем и заботился обо всех. Он был очень человечным, и люди его любили.
Интеллектуально он бы согласился с тем, что писал Франческо де Гасперис: «Церковь Святой Земли — это ивритоязычная церковь». А арабы-палестинцы — иностранная церковь. Но как можно так говорить, зная наши реалии? Это все — идеология. Кстати, эту идеологию разделял и кардинал Люстиже.
Сейчас викарий Латинского патриарха для ивритоязычных общин — не епископ, но у него есть полная пастырская независимость. Он назначается Ватиканом. Так что здесь совершенно особый устав. И это хорошо, ведь Латинский патриархат очень связан с арабским обществом, а мы не живем в арабском обществе.
Отец Даниэль Руффайзен
«Понять правду»
— Современный иудео-христианский диалог. Каким вы его видите сегодня?
— Есть несколько тем для диалога, которые мне кажутся сегодня очень важными. И это трудные вопросы.
1. Богословский вопрос, с которым не хотел иметь дело Иоанн Павел II, но вот Бенедикт начал этим заниматься. Это — сотериология, вопрос спасения.
Вслед за апостолом Павлом мы говорим, что завет Бога с евреями не отменен. Но что это значит? Это означает, что евреи спасаются и без Иисуса? Когда мы говорим, что не ведем миссии, это значит, что у нас нет организованной миссии в отношении евреев. Но само по себе это не про богословие, а про историю.
Думаю, что папа Иоанн Павел лишил диалог его богословской наполненности. Сделал его символическим: посетить Западную Стену, сходить в Яд Вашем. Но как богослов он был очень консервативен, так что даже не хотел иметь дело с богословскими аспектами этого диалога.
Папа Бенедикт — интеллектуал, он хочет понять правду и иметь дело именно с ней. И нам все равно придется иметь с этим дело. Думаю, что тут вопрос спасения — главный вопрос. И говорить об этом можно с теми из наших иудейских собратьев, кто готов вести именно религиозный диалог, а не относить все к истории и политике. Это не имеет отношения к тому, чтобы заставлять евреев становиться христианами. Но как христиане мы должны говорить именно об Иисусе.
2. Другой вопрос — Государство Израиль. Думаю, что на момент своего возникновения вопрос существования Государства Израиль действительно был вопросом духовным и моральным. Прошло почти сто лет, а мы все еще там же. Полгода назад вышла книга католического английского богослова, Гавин д’Коста, который говорит о том, что мы должны перейти к следующему шагу.
Что такое следующий шаг? Церковь должна признать, что сионизм — это богословский принцип. Такой рав Кук на христианской почве. Думаю, это романтика национализма XIX века, которая не должна становиться богословием.
Тут вопрос не просто государства, но земли. Главный вопрос, который сегодня задают об этом католики: Бог дал эту землю евреям. Разве мы отрицаем Ветхий Завет? Я думаю, что сегодняшние проблемы между евреями, арабами и местными христианами — политические, а не богословские. И я бы не хотел, чтобы это становилось богословием земли, государства и силы.
3. Третий вопрос — дойдем ли мы когда-нибудь до того, чтобы написать вместе нашу общую историю. Вместе, а не друг против друга. И не только историю отношений. Например, можем ли мы написать вместе, иудеи и христиане, общий учебник по Второй мировой войне?
Иоанн Павел, например, говорил о том, что евреи и поляки — в равной мере жертвы нацизма. И это вызвало возмущение с еврейской стороны. Можем ли мы прийти к согласию в таких вопросах?
— А могут ли англичане и французы написать общий учебник по Столетней войне? Сегодня у них нет проблем в отношениях, но видение истории, возможно, по-прежнему отличается…
— Да, это естественно. Но оно может быть оскорбительным. Учебники истории часто бывают самыми проблемными.
«С тех пор, как крестился, я этого не скрывал»
— Есть ли у Католической Церкви какие-то серьезные ограничения в ее деятельности в Израиле, со стороны государства? Можно ли строить церкви?
— То, что действительно сложно — это получить разрешение на строительство. Я с этим сталкивался, потому что построил в Тель-Авиве церковь. Я знал, что если буду просить разрешение, то не получу его.
В итоге мы купили полуразрушенное здание и превратили его в церковь. Рядом мы тоже купили здание, незаконно построенное в свое время. Юрист сказал, что оно стоит уже более 50 лет, так что разрушить его уже не могут. Но потом чиновник мне сказал, что да, разрушить здание не могут, но и ремонтировать его тоже нельзя…
Вокруг нас было множество зданий, которые были восстановлены точно таким же образом. На это чиновник мне сказал, без малейшего смущения: «Ну так они же евреи». Я, правда, сказал, что я тоже еврей… Вот такого как раз много. Запретов нет, нет запрещающих законов, но есть дискриминация.
При этом все-таки много новых церквей: Капернаум, Магдала, комплекс неокатехумената. Так что в Израиле нет никакого запрета на то, чтобы строить новые церкви или монастыри.
Запрет на репатриацию крещеным евреям — ведь тоже дискриминация. Отчасти это произошло «благодаря» о. Даниэлю. Кстати, в конце жизни он говорил, что то, что он пытался сделать — это было слишком рано. А ведь многие получили гражданство, просто не приходя в министерство внутренних дел в сутане. Малые сестры Иисуса, например, которые еврейского происхождения, они все получили гражданство… Что они пишут в анкетах, я не знаю: я репатриировался задолго до того, как был крещен.
— Приходилось ли вам когда-то в Израиле скрывать свое христианство?
— Когда я сюда приехал, я не был еще христианином. Но с тех пор, как крестился, я никогда этого не скрывал.
Есть проблема с молодежью в армии: все молодые люди, которые не являются арабами, но и не евреи, все они без исключения получают приглашение записаться на курсы для обращения в иудаизм.
В школах бывает по-разному. Через наших детей я познакомился с учителем, который преподает еврейскую культуру в одной из центральных школ Иерусалима (Pola Ben Gurion). Вот уже третий год, в том возрасте, когда дети готовятся к бар-мицве, он приглашает меня рассказать о христианстве, зная о том, что в каждом классе есть дети-христиане. И я им рассказываю о христианстве.
Многих детей я знаю по нашей общине — филиппинцы, эритрейцы. В прошлый раз, по ходу такой беседы, один беленький мальчик мне сказал: «Простите, но, если можно, я вас поправлю: Иисус не родился в нулевом году, он родился в IV году до нашей эры». Оказалось, что он с родителями каждую субботу ходит в русский Троицкий собор. Учитель, надо сказать, был очень изумлен. Так что там совсем не только дети из наших общин.
— Даниэль считал, что можно ходить в синагогу и участвовать там во всем…
— Я не считаю, что мы «должны» участвовать в иудейском богослужении. Что касается обрезания, то я никогда не был против. Я думаю, если дети в школе не филиппинцы и не эритрейцы, а выглядят как израильские еврейские дети, то им лучше быть обрезанными. Это не против нашей религии.
Что касается бар-мицвы, то я не рекомендую детям из нашей общины это делать. Но мы придумали вот что: у нас конфирмация совпадает с тем возрастом, когда делают бар-мицву. Христианская версия бар-мицвы. Они зовут своих друзей, в прошлом году пришел и учитель еврейской традиции. Для наших детей это было очень важно.
Что касается субботы: не думаю, что стоит туда ходить, если человеку некомфортно. Но я за то, чтобы все наши дети знали, что такое шаббат. Конечно, на уроке катехизиса мы говорим и о праздниках: что для нас значит, например, Ханука. Насколько мы можем сказать, что она «наша»?
Важно, чтобы дети привыкали думать в более сложных категориях. Один мальчик как-то сказал: «Если Иисус был иудеем, то почему мы не иудеи?» И мы ведь можем сказать, что христианство — еврейская религия. Я думаю, это хорошо, чтобы дети с молодого возраста привыкали рефлексировать.
В наших катехитических книгах для детей (я их и писал), мне кажется, очень много от наследия и видения Даниэля и Йоханана. Это книги об истории спасения, о литургии, о праздниках и литургическом календаре, о вере Церкви… Они представляют как раз то, что является католическим и еврейским одновременно. И они написаны — именно для данного общества.
Когда кто-то говорит, что он еврей, он совершенно не обязательно говорит о религии. Это я и имею в виду, когда говорю, что по вере я — христианин, но при этом я — еврей. Я не был верующим иудеем, но я понимаю кардинала Люстиже, который говорил, что и в религиозном смысле он ощущает себя частью еврейского народа.
Беседовал диакон Александр Занемонец
Источник: pravmir.ru






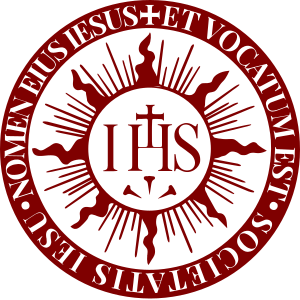

Свежие комментарии