На исповедь мы приходим, чтобы исповедовать не только грехи, но и любовь. Чтобы сказать: «Господи, я это все совершил, но я совру, если скажу, что не люблю тебя».
С ВОЙЧЕХОМ ЗЮЛЕКОМ SJ
беседует Катажина Кольска
Можно ли подойти к исповеди математически, с весами и мерой?
Конечно, можно. И часто мы делаем это, забывая, что Господь не бухгалтер. Его мера вещей — сердце, да и не только Его. Мы знаем это по собственному опыту. Когда мы любим, то меряем сердцем, ведь наша любовь — отражение любви Бога. Момент, когда мы начинаем высчитывать и вымерять, свидетельствует: в нашей любви что-то идет со скрипом. Ведь если есть любовь и близость, то нет математики.
Если сердце — это «мера всех вещей», то зачем тогда испытание совести?
Чтобы конкретизировать. Любовь — это не витание в облаках, а взаимоотношения, которые выражаются в совершенно определенных экзистенциальных ситуациях и соотносятся с жизнью по форме и содержанию.
Однако ожидается, что мы во время исповеди скажем, сколько раз совершили какой-то грех.
Потому что это помогает нам определить наше состояние. Если я хочу заглушить совесть и уменьшить тяжесть греха, то пробормочу, что «порой такое случается». Но если я действительно хочу покаяться, я скажу, что совершил этот грех не единожды, но множество раз. И что это также причиняет мне боль.
Конечно, есть люди, которые, приходя на исповедь, перечисляют все досконально: что касается первой заповеди, то я совершил грех столько-то раз, а вторую заповедь нарушил тогда-то и тогда-то. Принимая исповедь у такого человека, я должен терпеливо все выслушать. Ведь откуда мне знать, как это можно оценить? Может быть, это максимум того, на что человек способен. Может, его мучают какие-то страхи, и потому он цепляется за математику.
Некоторые, выходя после исповеди, тут же возвращаются, потому что вспомнили еще что-то…
После воскресения Христа апостол Петр трижды ответил исповеданием любви к Господу и трижды получил прощение, а когда Господь вверил ему новую миссию, Петр, вместо того, чтобы идти ее исполнять, что-то вспомнил и — как говорит Евангелие — «обратившись», спросил: «Господи, а он что?». Поэтому моя прямая обязанность как исповедника — выслушать человека, дать ему отпущение и сказать: «Я отпускаю тебе все твои грехи». Хотя, скорее всего, он не услышит слова «все».
Но ведь он в конце исповеди говорит: «Больше грехов не помню…»
Говорит, но всегда в страхе и не веря, что сказал правду. Более того, он уже в этот момент верит или, лучше сказать, знает, что не признался во всем и о чем-то забыл. Он глубоко переживает и не слышит того, что ему говорят, потому что все еще разговаривает с самим собой.
Мы говорим о людях, страдающих скрупулезной совестью. Но может ли это быть дорогой к духовному совершенству?
Господь может с помощью скрупулезности привести нас к смирению, а после — к духовной зрелости, но скрупулезность сама по себе — проявление страха.
Говоря языком философии или психологии — это страх любить, страх близости, страх стать беззащитным перед самим собой и перед другими. Мы все этого боимся, но некоторые из нас, особенно на определенном жизненном этапе, боятся этого очень сильно. Любовь заставляет нас открыться, любовь означает риск, ведь тот, перед которым я открылся, может ранить меня, использовать мою «наготу» против меня. Конечно, мы можем не идти на этот риск, однако, если не сделаем такого шага, то никогда не повзрослеем и не познаем вкус жизни.
Когда страх особенно велик, то включаются защитные механизмы. В этом случае мы стараемся зацепиться за что-то и чем-то занять одолеваемое страхом сердце. Скрупулезность — это одна из возможностей. Настолько подходящая, что оправдана религией и ссылается на абсолютный авторитет, то есть на самого Господа. Это означает, что можно отдаться ей полностью. А раз так, то в моем сердце нет места ни на что другое. Мне не придется рисковать, не придется становиться зрелым и обретать свободу. Все можно оставить так, как есть, без изменений.
То есть скрупулезность свидетельствует о незрелости сознания?
О незрелости и о том, что человеку чего-то не хватает. Это также кошмарная пытка. Скрупулезный человек часто прекрасно понимает, что, фанатично бегая на исповедь, он не получает облегчения и образ Господа, который проступает сквозь его скрупулезные перечисления, не такой, как на самом деле. Но этот человек не может иначе. Страх, который его мучает, необходимо как-то рационализировать, назвать, конкретизировать, то есть, говоря человеческим языком, у страха должно появиться лицо. Когда что-то имеет форму, с этим легче справиться. Религиозная форма является очевидной для верующего. К сожалению, она вовсе не облегчает его мучений, но усугубляет их, поскольку вводит «божественную» меру, с которой невозможно спорить.
О чем еще говорят эти мучения?
О моем желании познать настоящую любовь, о стремлении к зрелым отношениям с Господом, на которые я в данный момент не способен.
Игнатия Лойолу скрупулезность практически довела до самоубийства. Он очень страдал из-за навязчивой необходимости постоянно исповедоваться в прошлых и давно уже отпущенных грехах. Многие совершенно пустяковые вещи казались ему грехом, и он чувствовал необходимость говорить о них на исповеди. Если, к примеру, он шел по дороге и случайно наступал на две скрещенные соломинки, ему казалось, что он растоптал знак креста. Он ходил на исповедь к доминиканцам. И, хотя делал это очень часто и каждый раз «до последней капли», ничто не помогало. Тогда он решил, что если священник, которого он всегда слушался, запретит ему исповедоваться в прошлых грехах, это облегчит его мучения. И хотя он боялся обратиться с такой просьбой, исповедник действительно запретил ему это, однако добавил: «Если только что-то покажется совсем очевидным». А так как ему все казалось очевидным, то запрет не помог, и он страдал дальше.
К сожалению, именно так это работает. Скрупулезный человек крепко держится за свой страх, так как, несмотря на мучения, в данный момент не может без этого страха жить и просто так не избавится от него. Беззащитность и риск быть уязвленным любовью для него представляют большую опасность, чем сам страх. Поэтому он терпеливо выслушивает все, что говорит ему священник, а потом отвечает: «знаете, святой отец, у меня есть еще один грех…»
Нет универсального совета. Скрупулезность — это сильная эмоциональная привязанность, она ослепляет человека. Приведу пример из совершенно другой области, но тоже касающийся привязанности и неумения замечать происходящее вокруг.
Как-то раз ко мне пришел один человек, азартный игрок. Он проиграл все, что имел, лишился семьи и имущества. С болью и сожалением он рассказывал мне о своей неудавшейся жизни. Я говорил не очень много, только терпеливо слушал, потому что видел: именно это ему было нужнее всего. Он признался, что отдает себе отчет в своей зависимости и в том, что должен обратиться за помощью. В конце нашей продолжительной встречи я сказал ему: «Не буду ничего вам советовать, но я рад, что вы понимаете — вам нужна помощь, чтобы что-то с этим сделать». Он согласился со мной, поблагодарил, а потом очень спокойно, как будто говорил какую-то очевидную вещь, произнес: «Потому что знаете, святой отец, я чувствую — еще две ночи, и я бы отыгрался…»
Было ли у вас ощущение потраченного впустую времени?
Мне стало его очень жаль, я необыкновенно отчетливо осознал, насколько серьезно он болен, как сильна его привязанность и что он совершенно ослеплен ею.
Скрупулезность начинается с головы?
Нет, она начинается с сердца. Она рождается из страха перед близостью, перед любовью. Голова только подсказывает, в какой религиозный контекст этот страх можно поместить. Этот страх продиктован незрелостью, а незрелость — общий знаменатель всех неврозов. Говоря проще, суть ее в том, что я ни за что на свете не хочу выйти из своей детской комнаты и никого не хочу туда впускать. Почему? Потому что там я чувствую себя в безопасности, там все мои игрушки, кубики и пазлы сложены как надо, и я очень боюсь, что если выйду или кого-то впущу туда, порядок может нарушиться. Конечно, я хотел бы выйти во двор и поиграть в прятки или в футбол, я хотел бы целоваться с девочками за трансформаторной будкой, но страх потерять контроль над своим упорядоченным мирком сильнее. А когда я говорю другим, что не могу выйти, потому что боюсь за свои игрушки, то, конечно, они смеются надо мной, да я и сам вижу: оправдание слабое. Поэтому я решаю как-то по-другому объяснить необходимость оставаться в детской комнате. И чем серьезнее причина, которую я придумаю, тем лучше. Скрупулезность идеальна для этого, потому что ссылается на авторитет самого Господа Бога. Кто посмеет сомневаться в нем?
А что плохого в том, что кто-то хочет безопасной, упорядоченной жизни?
Не выходя из детской комнаты, невозможно прожить жизнь по-взрослому. Настоящая жизнь происходит снаружи, и чтобы почувствовать ее вкус, нужно рисковать.
Много лет практически на всех реколлекциях, интервью или когда есть возможность обстоятельно высказаться, я продолжаю повторять: вопреки тому, чему учила нас мама, суть жизни в том, чтобы позволить ей происходить! Я говорю это в шутливой форме, чтобы легче было запомнить, но имею в виду вполне серьезные вещи. «Позволить этому происходить» — это основа любых зрелых взаимоотношений, также и с Господом. Если мы судорожно будем держаться за то, что имеем сейчас, если не доверимся и не отправимся в неизвестность, то никогда не научимся любить.
Чтобы понять природу скрупулезности и справиться с ней, в первую очередь стоит обратиться к проблематике риска, то есть к тому, чтобы «позволить жизни происходить». Тот, кто не рискует, проигрывает.
То есть если человек каждые пару дней приходит на исповедь, это значит…
…что священник должен разобраться, в чем проблема, и сказать: «Я бы советовал вам не приходить так часто, но в то же время, если вы придете, знайте, что я всегда вас приму». Очень важно убедить человека в этом так, чтобы исповедующийся почувствовал: его переживания понимают и уважают. Нельзя оказывать давление или умничать. Это как помочь кому-то забраться на канат и сказать: «Я могу по нему ходить, значит, и ты наверняка сможешь». Вовсе нет. Кто-то может упасть. Всегда надо оставить возможность на что-то опереться. Иногда также стоит аккуратно и с уважением намекнуть на возможность консультации психолога или психиатра. Все это тоже жизнь.
А в состоянии ли человек, страдающий скрупулезной совестью, помочь себе сам, или же здесь необходима помощь исповедника или психолога?
Если мы говорим о каких-то серьезных нарушениях, то никто не в состоянии сам себе помочь. Осознание этих нарушений — первый шаг к выздоровлению. Скрупулезному человеку, как и каждому из нас, необходима эффективная помощь. Порой страх, который он испытывает, настолько силен, что без помощи психолога или психиатра не обойтись. Однако это вовсе не означает, что не следует направлять человека во время исповеди, напротив, следует направлять. Чтобы что-то созрело, сначала оно должно быть незрелым, а страх — часто своеобразный коридор, в конце которого — любовь. Это убежище, где прячется человек, прежде чем встретиться с собственной зрелостью. Там есть надежда. И если кто-то так и не выйдет из этого убежища, пробыв в нем всю жизнь, — что ж, такое случается. Скорее всего, ему не хватает сил, чтобы открыть еще одну дверь, он не отваживается это сделать.
Но это вовсе не меняет того, как нужно смотреть на каждого, кто приходит на исповедь, в нашем случае на того, кто сражается со своей скрупулезностью, чтобы — как говорит Игнатий Лойола в «Духовных упражнениях» — смотреть на себя самого так, как Господь смотрит на меня.
Если мы каждые пару дней приходим на исповедь, то, скорее, сомневаемся в этом.
Необязательно. Если мы приходим очиститься, чтобы потом сказать Богу: «Гляди, какой я чистый!», то да, вряд ли мы смотрим на себя глазами Господа. Но исповедь — это встреча с Господом, который милостив. Если я прихожу к Нему и рассказываю о своих переживаниях, об обыкновенных человеческих страданиях, то даже если я делаю это часто — так и должно быть. Подтвердить это могут слова, которые мы слышим в конце: «Отпускаю тебе все твои грехи». Другими словами — принимаю тебя таким, какой ты есть. На исповедь мы приходим, чтобы исповедовать не только грехи, но и любовь. Чтобы сказать: «Господи, я это все совершил, но я совру, если скажу, что не люблю тебя». Зачем нужно каяться в грехах? затем, чтобы обоюдное признание любви не повисло в воздухе, а было подтверждением настоящего, имеющего кровь и плоть, чувства.
Но ведь Бог уже знает о моих грехах, еще до исповеди.
Несомненно. И именно поэтому исповедь необходима Ему, не чтобы узнать о них, но чтобы использовать этот «повод» для обоюдного признания любви. Я, зная о моих грехах, не укрываю их, а смиренно говорю о них Господу, потому что люблю Его. Он также знает о моих грехах и не опровергает их, но говорит: «Я знаю обо всем, но все так же, а может быть, даже сильнее люблю тебя». Это — христианство, это — исповедь.
Вы говорите об обоюдном признании любви. Но для скрупулезного человека важнее совершенный грех, а не любовь!
Для него, как и для каждого из нас, важнее всего любовь. Мы все хотим ее, все ее ждем и тоскуем, когда ее нет.
Скрупулезность — это расстройство души или разума?
Я думаю, что и того, и другого. Жажда любви — это желание души или разума? Это просто человеческое желание. Когда оно исполняется, страх и скрупулезность исчезают, а даже если нет, они уже не так сильно одолевают нас, а это уже фактически победа. Страдающему скрупулезностью Игнатию не помогала никакая исповедь. Ему хотелось покончить с собой и тем самым покончить со своими мучениями. Но в определенный момент он почувствовал, что его любят и принимают. И это был конец страданий. Ко всему прочему, он осознавал, что ничего не добился своими силами, но так «захотел Господь Бог». Спасение всегда дается даром.
Некоторые делают подробные списки своих грехов на листке бумаги.
И нужно относиться к этому с большим уважением. В Томске, где я сейчас работаю, так исповедуются многие взрослые люди. И это вовсе не скрупулезность или чрезмерность. Скорее наоборот — это проявление их уважения к исповеди. Они не хотят просто забежать в костел по дороге и быстро выскочить оттуда, сказав священнику несколько банальных слов.
Когда мы готовимся к серьезному разговору, то часто записываем, о чем будем говорить, не так ли? Естественно, этот листок нельзя считать пропуском в рай — я во всем признался, вот мой документ, так что прощение я заслужил.
Хорошо. В таком случае предположим: я решила устроить себе испытание совести и говорю — так, здесь я поступила плохо, вот здесь тоже, а еще тут и там. Столько-то раз. Сухой подсчет. А если за этим всем нет сожаления?
Сожаление — это тоже милость, это плод наших отношений с Господом, мы сами из себя его не выдавим. Невозможно вызвать у себя сожаление. Если мы чего-то не чувствуем, то лучше не притворяться. Я всегда благодарю тех, кто во время исповеди говорит, что поступил неправильно, но не испытывает сожаления. Это значит, что они серьезно относятся к Церкви. Они не чувствуют сожаления, но знают учение Церкви, и потому говорят об этом грехе на исповеди. То есть они способны поставить под сомнение свои чувства и убеждения, а это черта людей взрослых и зрелых. Совсем другое дело, если кто-то говорит: «Я не испытываю сожаления, а значит, это вовсе никакой не грех». Основа сожаления — способность чувствовать. Один из священников, который учил нас в Риме принимать исповедь, говорил, что сам факт того, что человек приходит на исповедь, — уже выражение сожаления.
Каяться нужно коротко и по существу: солгал, украл, оговорил? Или же: «Я солгал, потому что…», «Я украл, но…»? И есть ли вообще какое-либо «но»?
Прежде всего я очень не люблю, когда священнослужители говорят, как должно быть, поэтому я говорить о таком не буду. Это как если бы одна супружеская пара говорила другой, как те должны проявлять свою любовь. Конечно, можно делиться опытом, но самое важное — взаимоотношения двух конкретных людей.
Но мы хотим знать, как должно быть на исповеди.
Должно быть так, чтобы обе стороны, то есть Господь и я, исповедовали свою любовь так, как у них получается лучше всего. Исповедь — это встреча, которая носит очень интимный характер. Поэтому нельзя сказать, что если кто-то коротко говорит о своих грехах, то исповедуется лучше, чем другой, более многословный.
Обычно я спрашиваю тех, кто приходит на исповедь: «Как вы живете?» Некоторые бывают удивлены: «А что вы имеете в виду?» Иногда кто-то начинает рассказывать свою историю. Ведь его грехи не взялись из ниоткуда, у них есть какой-то контекст. Я задаю свой вопрос не затем, чтобы узнать что-то и вынести исполненный мудрости приговор, я здесь не судья, но затем, чтобы он или она видели этот контекст. Есть шанс, что благодаря этому человек увидит: не всегда то, о чем судят так строго, настолько страшно, и наоборот — иногда под маской набожности скрывается лишь тщеславие.
Одолеваемые скрупулезностью люди очень строго судят себя и воспринимают Бога как бездушного палача, который только и ждет, что они споткнутся.
Это правда. Но им нужно говорить об этом с огромной любовью и осторожностью, особенно если нет уверенности, что нашими словами мы сможем до них достучаться. Это говорю я, спасенный грешник, который — были такие времена — каждые два дня ходил на исповедь.
До сих пор я помню свои тогдашние стыд, страх и бессилие. Однако ни разу мне не пришло в голову, что после очередного греха Господь скажет: «Хватит! Прочь, Зюлек!» В «Молчании» Мартина Скорсезе меня — старого священника и иезуита — больше всего тронул японец Кичиро, грешный, как Иуда, и слабый, вечно повторяющий так хорошо известный нам алгоритм: предательство, раскаяние, прощение, предательство… Нельзя остаться равнодушным, глядя на этого персонажа, проявляющего на протяжении всего фильма свою слабость. Потому что хоть он постоянно терпит крах, но все равно искренне жаждет любви и всегда принимает прощение. Меня Господь тоже всегда прощал. И даже если исповедник был со мной груб или жесток (а такое бывало), то я, стоя на коленях, думал: раз ты должен это делать, то делай, Господь любит и тебя тоже. Конечно, я помню также многих исповедников, которые, не преуменьшая моих грехов и не делая вид, что ничего не произошло, все же относились ко мне с чуткостью и милосердием.
Не всегда священники относятся к прихожанам c любовью и пониманием…
Несмотря на все старания, скорее всего, и меня иногда можно отнести к числу таких священников. Я не удивляюсь, если кто-то больше не возвращается в церковь после исповеди, во время которой к нему нехорошо отнеслись.
Потому что вместо милосердного Бога он встретил немилосердного священника.
И для некоторых это может быть причиной отказа от устной исповеди. Я был бы за, ведь это избавило бы нас от огромного стресса, если бы не тот факт, что мы, люди из крови и плоти, нуждаемся в словах «прощаю тебя, отпускаю все твои грехи». С этой точки зрения мы не самодостаточны. Нам необходим другой человек. Тем больше наша ответственность как священнослужителей. Есть такое итальянское словечко — vulnerabile, ранимый человек. Оно идеально описывает человека во время исповеди, в этот момент совершенно беззащитного. Нет разницы, пришел он спустя пять лет, один месяц или два дня. Он беззащитен передо мной. Это большая ответственность и большое обязательство.
Хорошая исповедь — это какая исповедь?
Хорошая исповедь — искренняя исповедь, но искренняя не в том смысле, что я ничего не забыл, все точно подсчитал и сказал, а такая, в которой говорил от души, был самим собой. Предстать перед Господом беззащитным. Настолько, насколько я в данный момент могу. И неважно, с листком бумаги, где я старательно выписал все свои грехи, или без него.
Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные. Может быть это искра надежды для тех, кто страдает скрупулезностью?
Это искра надежды для нас всех. У каждого есть свой камень на сердце. Нет человека, который не был бы отягощен им. Мы все обречены сгибаться под его тяжестью. Эти слова Иисуса для нас всех, поэтому всем нам нужна поддержка и утешение. Именно это происходит во время исповеди.
Тогда почему исповедь вызывает в нас страх?
Потому что мы постоянно повторяем, что Господь нас любит и все нам прощает, но так до конца и не верим, что это правда. Неверие в любовь и во всепрощение Господа старо как мир.
Притча о блудном сыне нас не убеждает?
У меня всегда сжимается сердце от этой притчи. Не на словах «И когда он был еще далеко…» (как раньше), а в момент, когда отец говорит второму сыну: «Сын мой…» Ведь он говорит это тому, кто всю жизнь с ним спорит, обвиняет его в несправедливости, и кто — где-то в глубине души — считает отца тираном и конкурентом, угрожающим его счастью. А отец с такой мужской (и оттого такой трогательной) нежностью говорит ему: «Сын мой». Потому что отец знает, что его сын так же сильно жаждет любви, только еще не понимает ее и очень боится… |
ВОЙЦЕХ ЗИОЛЕК SJ — род. в 1963 г., иезуит, спасенный грешник, библейский теолог, душепастырь. В 2008-2014 гг. занимал пост провинциала краковских иезуитов. Ранее в течение многих лет был душепастырем студентов. В настоящий момент служит настоятелем иезуитского прихода в Томске в Сибири.
Источник: «В пути», 1/2019 (https://wputi.net/)







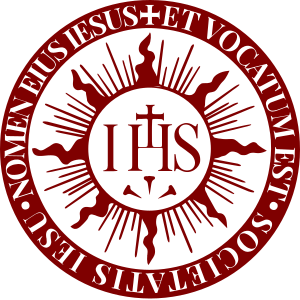

Свежие комментарии